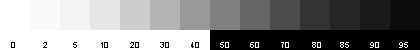Багильдинский – молчаливый
художник.
Годы работы слесарем в научном институте,
сосредоточенность на детали, в буквальном
смысле на предмете обработки, сборки
и прочих радостей сосуществования
с техникой, наработали ему точный
глаз и умение доверять чувству меры
наперед всех объяснений о его необходимости.
Эти же долгие годы накопили в нем
столько неудовлетворенного любопытства
по поводу «простой жизни на воле
и на земле», что, освободившись,
наконец, от необходимости производственного
и финансового ритуала прежней жизни,
он выходит на тропу фотографического
исследования бытия как зоркий и
опытный охотник за одной ему ведомой
реальностью.
Еще и потому не зря трудился
Багильдинский
на благо научных достижений нашей
родины, что заприметили его на этом
поприще многочисленные живописцы
и графики, чтобы заказывать для
своих настоящих и сомнительных шедевров
рамы и подрамники. Шапочное знакомство
слесаря-«золотые руки» перерастало
сначала в художественные разговоры
о возможностях и невозможностях
изобразительных усилий индивидуума,
а потом и в крепкую мужскую дружбу,
сопровождаемую дарением работ различной
степени гениальности любимому мастеру
обрамлений. Впрочем, дарение работ
иногда происходило и без всякой
дружбы с мастерами кисти.
И набралась в доме у Багильдинского
целая галерея непостижимых простому
разуму образов пойманной художниками
натуры, в которые вглядывался советский
слесарь Валерий Анатольевич. И эти
необъяснимые пространства его, можно
сказать, просто гипнотизировали.
Но профессионал во всем, Багильдинский
не стал брать в руки кисть и бумагу,
пускаться в наивное живописное плавание
наподобие милых сердцу Шевелева
или Лобанова. К его и нашему счастью
к тому времени на российском провинциальном
горизонте уже ясно замаячил иной
художественный путь, не уступающий
давно существующим видам изобразительного
искусства в возможностях познания
этого удивительного мира.
В начале перестройки, в
1985 году,
пятидесятилетний Багильдинский увидел
первую в Чебоксарах выставку фотографий,
которые делали люди из фотоклуба
«Ракурс», не связанные ни с официозным
искусством, ни с эротическим подпольем.
Они просто радостно выражали себя,
избрав окончательно ставшую доступной
фотографию в качестве инструмента
переосмысления реальности. И процесс
этот захватывал их ничуть не меньше,
чем знакомых Багильдинскому живописцев.
Вот тогда он взял в руки
«Зенит».
Которым снимает и доныне. Причем,
на черно-белую пленку. Последнюю
он проявляет дедовским способом
у себя дома. И по сей день. Дома
он печатает и все свои снимки. «Старообрядческий»,
по фотографическим меркам, процесс
проявки и закрепления результата
съемки в условиях тесного быта у
Багильдинского и сам получает статус
метафоры. В мире цифровых технологий
подобный процесс стильно анахроничен,
то есть претендует на вечность.
Такой же статус получает у Багильдинского
и выработанный годами технологический
принцип предельного контраста, запечатления
именно ночью и именно с помощью
яркой вспышки. И ярче всего эта
метафора вспыхнула в серии «Встречи»,
где вспышка, являясь кульминацией
процесса подготовки к ней, играет
и буквально роль некоей вспышки
чувства, интереса между фотографом
и «объектом».
Багильдинскому надо было пройти
через многие «дворики», «спины»,
«лошади», «лодки» и «путевые заметки»,
чтобы его вспышка выхватила, наконец,
подобное неведомое пространство
из темноты деревни Криуши. В этой
деревне у Багильдинского есть дом
с банальным огородом, где он копается
днем, и окрестности которого чуть
вечер превращаются в плацдарм его
метафизических исследований.
Когда-то о фотографии
писали,
что эта чудесная игрушка сместила
вектор познания с глобально метафизической,
религиозной и абстрактно-философской
проблематики к проблемам социального
и личностно-психологического характера.
Но уже в начале 70-х годов прошлого
века фотографы стали пытаться «задвинуть»
этот вектор на свое законное место
и в искусстве фотографии.
Например, ленинградский художник
Валентин Самарин разработал тогда
уникальное направление – парапсихологическую,
метафизическую и трансперсональную
фотографию. За неофициальные выставки
был посажен, а затем и выдворен
из Союза. Сейчас живет в Париже.
Однако самаринская метафизика и
парапсихология прекрасным образом
оторвана от каких-либо признаков
человеческой жизни и развевается
сама по себе, высоко и независимо
от людского отчаяния и любви.
А вот чебоксарские фотографы,
с самого начала своего клубного
фотодвижения нацелившиеся именно
на метафизическую фотографию, пытаются
связывать вечное, первоосновы, с
самыми обычными человеческими действиями.
И этот уход от социальных и психологических
планов «назад – в будущее», к абстрактно-философским
проблемам, уже не сопровождался
нагромождениями одних трещин, зигзагов
и провалов — олицетворением бьющейся
в тисках или парящей в облаках мысли.
Одним из лидеров и разработчиков
этого направления был и остается
в Чебоксарах Юрий Евлампьев, персонажи которого
не знают ни кульминационного момента,
ни общения с фотографом, а потому
как бы бросают вызов самому времени
и самой реальности.
Метафизика Багильдинского
иного рода.
Вспышка интереса друг к другу фотографа
и объекта, о которой говорилось
выше, как призрак отца Гамлета,
высвечивает такие тайны отношений
личности и пространства, которым
нет места в реальности. Зиновий
Зиник называл общение своего рода
самопровокацией, подстрекательством
на нечто такое, чего, сидя в одиночестве,
от себя не ожидал. Ради этой самой
вспышки Багильдинский каждый раз
идет на это самое подстрекательство
«на нечто такое». И каждый раз получает
именно то, чего «не ожидал». Момент
откровения тем неожиданней, что
общение всегда сводится к безобидным
коротким разговорам о будничных
делах и обещанием управиться тремя-четырьмя
кадрами. «Я и сам не знаю. Что мною
движет», – честно признается Валерий
Багильдинский, пытаясь ответить
на вопрос, зачем он каждый божий
летний вечер идет к людям с фотокамерой.
Недоверие криушских жителей
в большинстве случаев давно растаяло,
как снег двадцатилетней давности.
Но суеверия остались. Простой человек
инстинктивно чувствует, что вспышка
Багильдинского как огни летающей
тарелки проливает какой-то иной
свет на их привычную жизнь. По этой
причине, некоторые селяне упорно
запрещают снимать себя и своих жен.
Хотя человек с аппаратом здесь,
благодаря Багильдинскому, становится
обычным элементом пейзажа. Зато
другие, и их большинство, испытывают
не меньшее любопытство по отношению
к тому, чего «не ожидаешь». Прорыв
через все это, видимо, составляет
самую замечательную сторону багильдинского
творчества, как и сам прорыв через
реальность. Если вторить модному
нынче Коэльо, то реальность – это
нечто приспособленное к коллективному
желанию. Вспышкой в ночи Багильдинский
умудряется оставить ее «неприспособленной»,
то есть выхватить некий сторонний
взгляд «первого дня творения», очистить
от суетного мусора. И все потому,
что просто его выбор – точен. А
Криуши по этой причине становятся
некой заповедной, почти инопланетной,
зоной.